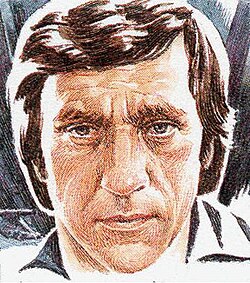В этой статье собраны стихи русских поэтов о войне.
Апухтин Алексей Николаевич (1840—1893)
Солдатская песня о Севастополе (1869)
Не весёлую, братцы, вам песню спою,
Не могучую песню победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.
Я спою вам о том, как от южных полей
Поднималося облако пыли,
Как сходили враги без числа с кораблей
И пришли к нам, и нас победили.
А и так победили, что долго потом
Не совались к нам с дерзким вопросом,
А и так победили, что с кислым лицом
И с разбитым отчалили носом.
Я спою, как, покинув и дом и семью,
Шёл в дружину помещик богатый,
Как мужик, обнимая бабёнку свою,
Выходил ополченцем из хаты.
Я спою, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали,
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали!
Как красавицы наши сиделками шли
К безотрадному их изголовью,
Как за каждый клочок нашей русской земли
Нам платили враги своей кровью;
Как под грохот гранат, как сквозь пламя и дым,
Под немолчные, тяжкие стоны
Выходили редуты один за другим,
Грозной тенью росли бастионы;
И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов её смелых...
Пусть не радостна песня, что вам я пою,
Да не хуже той песни победы,
Что певали отцы в Бородинском бою,
Что певали в Очакове деды.
#вернуться к содержанию
Асадов Эдуард Аркадьевич (1923—2004)
День Победы. И в огнях салюта…
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: — Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена… А если неженатый,
То девчонка — лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днём… невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Всё сумел и одолел народ.
Мир пришёл как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля…
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывёт моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: лётчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица…
Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпьё, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чём-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя всё мелкое, пустое,
Скинув скуку, чёрствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Письмо с фронта
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую — слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник «украшал»,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.
Мы были беспечными, глупыми были,
Мы всё, что имели, не очень ценили,
А поняли, может, лишь тут, на войне:
Приятели, книжки, московские споры —
Всё — сказка, всё в дымке, как снежные горы…
Пусть так, возвратимся — оценим вдвойне!
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки,
Застыли орудья, как стадо слонов,
И где-то по-мирному в гуще лесов,
Как в детстве, мне слышится голос кукушки…
За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры …
Ты здесь, ты со мною, родная моя!
В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поёшь
И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идёшь.
И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!
#вернуться к содержанию
Ахматова Анна Андреевна (1889—1966)

Анна Ахматова, портрет работы О. Л. Кардовской, 1914
Не бывать тебе в живых… (1921)
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Победителям (1944)
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!
#вернуться к содержанию>
Ваншенкин Константин Яковлевич (1925—2012)
Земли потрескавшейся корка… (1952)
Земли потрескавшейся корка.
Война. Далекие года…
Мой друг мне крикнул:
— Есть махорка?.
А я ему:
— Иди сюда!..
И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал,
И он уже достал газету,
А я махорку доставал.
Слепил цигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
А он сказал мне безмятежно:
— Ты сам прикуривай сперва…
От ветра заслонясь умело,
Я отступил на шаг всего,
Но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.
И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.
И я не мог улыбку эту
Забыть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
Мы с ним у жизни на краю.
Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не смог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего…
#вернуться к содержанию
Винокуров Евгений Михайлович (1925—1993)
Глаза (1944—1957)
Взрыв. И наземь. Навзничь. Руки врозь. И
Он привстал на колено, губы грызя.
И размазал по лицу не слёзы,
А вытекшие глаза.
Стало страшно. Согнувшийся вполовину,
Я его взвалил на бок.
Я его, выпачканного в глине,
До деревни едва доволок.
Он в санбате кричал сестричке:
— Больно! Хватит бинты крутить!.. —
Я ему, умирающему, по привычке
Оставил докурить.
А когда, увозя его, колёса заныли
Пронзительно, на все голоса,
Я вдруг вспомнил впервые: у друга ведь были
Голубые глаза.
#вернуться к содержанию
Высоцкий Владимир Семёнович (1938—1980)
Братские могилы (1964)
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
Он не вернулся из боя (1969)
Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — не про то разговор,
Вдруг заметил я — нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! — А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
#вернуться к содержанию
Гамзатов Расул Гамзатович (1923—2003)
Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времён тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определённым строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
#вернуться к содержанию
Гончаров Виктор Михайлович (1920—2001)
Мне ворон чёрный смерти не пророчил… (1944)
Мне ворон чёрный смерти не пророчил,
Но ночь была,
И я упал в бою.
Свинцовых пуль трассирующий росчерк
Окончил биографию мою.
Сквозь грудь прошли
Расплавленные пули.
Последний стон зажав тисками скул,
Я чувствовал, как веки затянули
Открытую солдатскую тоску,
И как закат, отброшенный за хаты,
Швырнул в глаза кровавые круги,
И как с меня угрюмые солдаты
Неосторожно сняли сапоги…
Но я друзей не оскорбил упрёком.
Мне всё равно. Мне не топтать дорог.
А им — вперёд. А им в бою жестоком
Не обойтись без кирзовых сапог.
#вернуться к содержанию
Гумилёв Николай Степанович (1886—1921)
Георгий Победоносец
Идущие с песней в бой,
Без страха — в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведёт святой —
Крылатый и мудрый вождь.
Пылающий меч разит
Средь ужаса и огня.
И звонок топот копыт
Его снегового коня…
Он тоже песню поёт —
В ней слава и торжество.
И те, кто в битве падёт,
Услышат песню его.
Услышат в последний час
Громо́вый голос побед.
Зрачками тускнеющих глаз
Блеснёт немеркнущий свет!
#вернуться к содержанию
Дементьев Андрей Дмитриевич (род. 1928)
Баллада о матери
Постарела мать за тридцать лет,
А вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.
И на что надеется она?
Много лет как кончилась война,
Много лет как все пришли назад,
Кроме мёртвых, что в земле лежат.
Сколько их в то дальнее село
Мальчиков безусых не пришло…
Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне.
Все пришли в кино: и стар, и мал,
Кто познал войну и кто не знал.
Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.
Трудно это было вспоминать…
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронёсся материнский крик:
«Алексей, Алёшенька, сынок!»,
Словно сын её услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой,
Всё боялась, вдруг он упадёт,
Но сквозь годы мчался сын вперёд.
«Алексей!» — кричали земляки,
«Алексей!» — просили, — «Добеги!»
…Кадр сменился. Сын остался жить.
Просит мать о сыне повторить.
И опять в атаку он бежит,
Жив-здоров, не ранен, не убит.
«Алексей, Алёшенька, сынок»,
Словно сын её услышать мог…
Дома всё ей чудилось кино,
Всё ждала — вот-вот сейчас в окно
Посреди тревожной тишины
Постучится сын её с войны.
#вернуться к содержанию
Друнина Юлия Владимировна (1924—1991)
Я столько раз видала рукопашный…
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Я принесла домой с фронтов России…
Я принесла домой с фронтов России
Весёлое презрение к тряпью —
Как норковую шубку, я носила
Шинельку обгоревшую свою.
Пусть на локтях топорщились заплаты,
Пусть сапоги протёрлись — не беда!
Такой нарядной и такой богатой
Я позже не бывала никогда…
Зинка (1944)
Памяти однополчанки —
Героя Советского Союза
Зины Самсоновой
1
Мы легли у разбитой ели.
Ждём, когда же начнёт светлеть.
Под шинелью вдвоём теплее
На продрогшей, гнилой земле.
— Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живёт.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперёд!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.
2
С каждым днём становилось горше.
Шли без митингов и знамён.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
3
— Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
Запас прочности
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Бинты
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем — так учили нас.
Одним движеньем — только в этом жалость…
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться — беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймёшь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
Ты должна!
Побледнев,
Стиснув зубы до хруста,
От родного окопа
Одна
Ты должна оторваться,
И бруствер
Проскочить под обстрелом
Должна.
Ты должна.
Хоть вернёшься едва ли,
Хоть «Не смей!»
Повторяет комбат.
Даже танки
(Они же из стали!)
В трёх шагах от окопа
Горят.
Ты должна.
Ведь нельзя притворяться
Перед собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно
«Сестрица!»
Кто-то там,
Под обстрелом, кричит…
В бухте (1947)
Чаек крикливых стая.
Хмурый морской простор.
Ветер, листву листая,
Осень приносит с гор.
Я в бухте уединённой,
С прошлым наедине.
Проржавленные патроны
Волны выносят мне.
Ввысь, на крутые дали,
Смотрю я из-под руки —
Давно ли здесь отступали
Русские моряки?
От самого Карадага
Они отползали вниз.
Отчаяние с отвагой
В узел морской сплелись.
Они отступали с боем
И раненых волокли.
А море их голубое
Вздыхало внизу, вдали.
И верили свято парни:
За ними с Большой земли
Послала родная армия
На выручку корабли.
Хрипел командир: — Братишки!
Давайте-ка задний ход.
Я вижу в тумане вспышки —
То наша эскадра бьёт.
А в море эскадры этой
Не было и следа —
За Севастополем где-то
Наши дрались суда…
Вздыхали пустынные волны…
Да, может быть, лишь в бою
Мы меряем мерой полной
Великую веру свою.
Великую веру в отчизну,
В поддержку родной земли.
У нас отнимали жизни,
Но веру отнять не могли!
#вернуться к содержанию
Евтушенко Евгений Александрович (1932—2017)
Хотят ли русские войны? (1961)
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под берёзами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
#вернуться к содержанию
Занадворов Владислав Леонидович (1914—1942)
Война (1942)
Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит своё выраженье.
Это — изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это — боль головная, что ломит висок;
Это — юность моя, что в окопах истлела;
Это — грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звёзды окопных ночёвок;
Это — кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это — в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землёй. И лишь как завершенье
Под разрывы снарядов, при вспышках гранат
Беззаветная гибель на поле сраженья.
#вернуться к содержанию
Казакова Римма Фёдоровна (1932—2008)
На фотографии в газете…
На фотографии в газете
нечётко изображены
бойцы, ещё почти что дети,
герои мировой войны.
Они снимались перед боем —
в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.
Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя, —
жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зелёная трава.
Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.
…Они прикрыли жизнь собою, —
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зелёная трава.
#вернуться к содержанию
Лебедев-Кумач Василий Иванович (1898—1949)
Священная война (24 июня 1941)
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса
Во всём враждебны мы, —
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Не смеют крылья чёрные
Над родиной летать.
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война.
Два друга (1943)
Дрались по-геройски, по-русски
Два друга в пехоте морской:
Один паренёк был калужский,
Другой паренёк — костромской.
Они точно братья сроднились,
Делили и хлеб и табак,
И рядом их ленточки вились
В огне непрерывных атак.
В штыки ударяли два друга, —
И смерть отступала сама!
— А ну-ка, дай жизни, Калуга?
— Ходи веселей, Кострома!
Но вот под осколком снаряда
Упал паренёк костромской…
— Со мною возиться не надо, —
Он другу промолвил с тоской. —
Я знаю, что больше не встану, —
В глазах беспросветная тьма…
— О смерти задумал ты рано!
Ходи веселей, Кострома!
И бережно поднял он друга,
Но сам застонал и упал.
— А ну-ка… дай жизни, Калуга!
Товарищ чуть слышно сказал.
Теряя сознанье от боли,
Себя подбодряли дружки,
И тихо по снежному полю
К своим доползли моряки.
Умолкла свинцовая вьюга,
Пропала смертельная тьма…
— А ну-ка, дай жизни, Калуга!
— Ходи веселей, Кострома!
#вернуться к содержанию
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841)

Михаил Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Картина Петра Заболотского (1837)
Бородино (1837)
— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!
Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.
Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.
И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.
И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамёна, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!
Поле Бородина (1830—1831)
1
Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Шумела буря до рассвета;
Я, голову подняв с лафета,
Товарищу сказал:
«Брат, слушай песню непогоды:
Она дика как песнь свободы».
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищ не слыхал.
2
Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданый
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали»
И мы погибнуть обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в бородинский бой.
3
Что Чесма, Рымник и Полтава?
Я вспомня леденею весь,
Там души волновала слава,
Отчаяние было здесь.
Безмолвно мы ряды сомкнули,
Гром грянул, завизжали пули,
Перекрестился я.
Мой пал товарищ, кровь лилася,
Душа от мщения тряслася,
И пуля смерти понеслася
Из моего ружья.
4
Марш, марш! пошли вперёд, и боле
Уж я не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамёна как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел.
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
5
Живые с мёртвыми сравнялись.
И ночь холодная пришла,
И тех, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали,
Противник отступил:
Но день достался нам дороже! —
В душе сказав: помилуй боже!
На труп застывший, как на ложе,
Я голову склонил.
6
И крепко, крепко наши спали
Отчизны в роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали!
Но этим не могли помочь. —
Однако же в преданьях славы
Всё громче Рымника, Полтавы
Гремит Бородино.
Скорей обманет глас пророчий,
Скорей небес погаснут очи,
Чем в памяти сынов полночи
Изгладится оно.
#вернуться к содержанию
Лобода Всеволод Николаевич (1915—1944)
Погиб товарищ (1944 г. За четыре дня до своей смерти)
Во вражьем стане цели он разведал,
Мечтал о встрече с милой над письмом,
Читал статью про скорую победу,
И вдруг — разрыв, и он упал ничком.
Мы с друга окровавленного сняли
Осколком просверлённый партбилет,
Бумажник, серебристые медали.
А лейтенанту было двадцать лет…
Берёт перо, согбен и озабочен,
Бумажный демон, писарь полковой.
О самом страшном пишет покороче
Привычною, недрогнувшей рукой.
Беду в письмо, выплескивая разом,
Он говорит: «Ведь надо понимать,
Что никакой прочувствованной фразой
Нельзя утешить плачущую мать».
Она в слезах утопит своё горе,
Покуда мы, крещённые огнём,
Врага утопим в пенящемся море,
На виселицу Гитлера сведём.
И женщина инстинктом материнским
Отыщет сына дальние следы
В Курляндии, под елью исполинской,
На скате безымянной высоты
Седая мать увидит изумлённо
На зелени могилы дорогой
Венок лугов, как яркая корона.
Возложенный неведомой рукой.
Блеснут в глазах цветы, ещё живые,
От латышей — сынку? сибиряку?
И гордость вспыхнет в сердце и впервые
Перехлестнёт горячую тоску.
#вернуться к содержанию
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878)
Внимая ужасам войны… (1855 или 1856)
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слёзы —
То слёзы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей…
#вернуться к содержанию
Окуджава Булат Шалвович (1924—1997)
До свиданья, мальчики (1958)
Ах война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом — солдат…
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад
Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и всё-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб — разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведём с ними счёты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идёте войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
#вернуться к содержанию
Ошанин Лев Иванович (1912—1996)
Волжская баллада (1945)
Третий год у Натальи тяжёлые сны,
Третий год ей земля горяча —
С той поры как солдатской дорогой войны
Муж ушёл, сапогами стуча.
На четвёртом году прибывает пакет.
Почерк в нём незнаком и суров:
<Он отправлен в саратовский лазарет,
Ваш супруг, Алексей Ковалёв>.
Председатель даёт подорожную ей.
То надеждой, то горем полна,
На другую солдатку оставив детей,
Едет в город Саратов она.
А Саратов велик. От дверей до дверей
Как найти в нём родные следы?
Много раненых братьев, отцов и мужей
На покое у волжской воды.
Наконец её доктор ведёт в тишине
По тропинкам больничных ковров.
И, притихшая, слышит она, как во сне:
— Здесь лежит Алексей Ковалёв. —
Нерастраченной нежности женской полна,
И калеку Наталья ждала,
Но того, что увидела, даже она
Ни понять, ни узнать не могла.
Он хозяином был её дум и тревог,
Запевалой, лихим кузнецом.
Он ли — этот бедняга без рук и без ног,
С перекошенным, серым лицом?
И, не в силах сдержаться, от горя пьяна,
Повалившись в кровать головой,
В голос вдруг закричала, завыла она:
— Где ты, Лёша, соколик ты мой?! —
Лишь в глазах у него два горячих луча.
Что он скажет — безрукий, немой!
И сурово Наталья глядит на врача:
— Собирайте, он едет домой.
Не узнать тебе друга былого, жена, —
Пусть как память живёт он в дому.
— Вот спаситель ваш, — детям сказала она, —
Все втроём поклонитесь ему!
Причитали соседки над женской судьбой,
Горевал её горем колхоз.
Но, как прежде, вставала Наталья с зарёй,
И никто не видал её слез…
Чисто в горнице. Дышат в печи пироги.
Только вдруг, словно годы назад,
Под окном раздаются мужские шаги,
Сапоги по ступенькам стучат.
И Наталья глядит со скамейки без слов,
Как, склонившись в дверях головой,
Входит в горницу муж — Алексей Ковалёв —
С перевязанной правой рукой.
— Не ждала? — говорит, улыбаясь, жене.
И, взглянув по-хозяйски кругом,
Замечает чужие глаза в тишине
И другого на месте своём.
А жена перед ним ни мертва ни жива…
Но, как был он, в дорожной пыли,
Все поня́в и не в силах придумать слова,
Поклонился жене до земли.
За великую душу подруге не мстят
И не мучают верной жены.
А с войны воротился не просто солдат,
Не с простой воротился войны.
Если будешь на Волге — припомни рассказ,
Невзначай загляни в этот дом,
Где напротив хозяйки в обеденный час
Два солдата сидят за столом.
Баллада о Сергее Кускове (1945)
Когда командир, чтоб сдержать врага,
На смерть позвал смельчаков,
Первым из строя на два шага
Вышел Сергей Кусков.
Последний танк в дыму вороном
От его руки запылал,
И, выполнив долг,
Под вражьим огнём
На землю Кусков упал.
Посмертно «Героем» его нарекли.
Но когда спустилась мгла,
Женщина
в пепле родной земли
Живым его нашла.
От вражьего взгляда укрыла его
Густою лесною тьмой.
Прохладой летом лечила его,
Теплом лечила зимой.
— Где я? — очнувшись, спросил Кусков.
Она зашептала:
— Молчи! —
Тяжкие звуки чужих шагов
Он услыхал в ночи.
На дорогах чужого металла звон,
Голоса чужие в селе.
— Не мне их бояться!—воскликнул он, —
Я на родной земле! —
Он сойкой свистнул, запел щеглом,
И вдруг на все голоса
До границы на сотни вёрст кругом
Зазвенели в ответ леса.
И в сёлах, прижавшись к русским печам,
Задрожали враги.
Теперь им мерещились по ночам
Повсюду его шаги.
Предатель болтается на столбе,
Мост — на сотни кусков,
Записка в пустой штабной избе:
«Был Сергей Кусков».
Его ловили в густом бору
Два отборных полка.
Его повесили на миру
На площади городка.
Палач, довольный, спешит на ночлег.
Но граната летит из кустов.
Смеётся поднявшийся человек:
«Я — Сергей Кусков».
Полк за полком
за часом час
Сровняли полземли.
Его повесили десять раз
И десять раз сожгли.
Но когда наши части пришли сюда,
Навстречу шёл из лесов
Живой, как огонь, как земля и вода,
Дважды Герой Кусков.
#вернуться к содержанию
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960)
Смерть сапёра (1943)
Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Bот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.
Вот там она, и там, и тут она
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволкою колючей.
Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.
Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.
Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.
Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы завтра предстоящей.
Вдруг одного сапёра ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.
Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастёрке.
И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю,
И вновь и вновь терял сознанье.
Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.
Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врождённой стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.
Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.
Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.
В часах задвигались колёсики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.
Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.
Пехота шла вперёд маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.
Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.
Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.
Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
B пластунском деле накануне.
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.
Смелость (1941)
Безымённые герои
Осаждённых городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.
В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.
Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.
А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.
Вы брались рукой умелой
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела
За ружейные стволы.
И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.
Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролёту
Из глухого блиндажа.
Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожён.
И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.
Вам казалось всё пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.
Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.
Победитель (1944)
Вы помните ещё ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и пёрли
И осень шагом испытаний шла?
Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Всё воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.
И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
B восторге смотрит на его лицо.
Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.
#вернуться к содержанию
Поженян Григорий Михайлович (1922—2005)
Ветер с моря (1947)
Памяти Дмитрия Глухова
1
Был приказ прорваться к Эльтигену
днём
сквозь строй немецкого заслона.
Командир сказал, что повезло нам,
и поздравил нас.
Взбивая пену,
клокотало море.
На причалах
от наката волн качались сваи.
Командир сказал, что так бывает, —
и сигнальщик поднял флаг на фалах.
Шеи пушек вытянулись к югу,
дрогнули,
качнулись мачты косо —
это реверс выжали матросы,
и земля шарахнулась в испуге.
В этот день на рейде не клялись мы,
уходя, вещей не завещали.
Командир сказал: «Вернёмся к чаю!» —
И велел отправить наши письма.
Он стоял, спокойный и угрюмый,
молчаливый и широкоспинный,
слушая, как напевает трюмный
песню про влюблённую рябину.
Что он думал?
Думал ли о бое,
что придёт в горячечном ознобе,
впившись в борт десятками пробоин,
в пятнах крови на матросской робе,
или, может, видел над собою
только небо, небо голубое?
Что хотел он?
На одном моторе
мирно,
не рискуя головою,
проскочить, не встретив немцев в море,
потому что море — штормовое?
Или, может, он мечтал у порта
вдруг увидеть их,
чтоб тотчас, с ходу,
стать «гостеприимным» мореходом
и схлестнуться, выйдя к борту бортом,
так чтоб флаги с чёрными крестами
падали,
линяя под винтами?
…Он был ранен после первых вспышек.
Медленно
по мокрому реглану
кровь стекала под ноги.
Я слышал,
как он приказал:
«Идти тараном!
По разрывам,
в лоб,
врезаясь строем!»
…Немцев было восемь.
Наших — трое.
Немцы шли на малом.
Мы — на полном.
Немцы шли за ветром.
Мы — сквозь волны.
С ними был их бог.
А с нами — сила.
Он им не помог.
А нас носила
Яростная злоба над волнами.
С немцами был бог.
А море — с нами.
…Море с нами, — значит, каждым валом
нас волна собою прикрывала
и несла на гребень против ветра.
Ближе,
ближе,
ближе.
С каждым метром
чаще всплески вражеской картечи.
Мы неслись вперёд, в волне по плечи,
и на пушках запекалась краска…
Я не слышал, как по серым каскам
звякали визжащие осколки,
но зато я видел, как умолкли
пушки на беструбой барже рядом,
как она, подбитая снарядом,
медленно вползала в чёрный выем.
— Море вам оплатит штормовые! —
Выстрел!
И куски брони летят, как вата.
Выстрел!
И, качнувшись угловато,
переломлен надвое по мостик,
головной отправлен рыбам в гости.
…Немцы отвернули в полумиле.
Немцев подвели плохие нервы.
Мы не гнались…
Мы похоронили
катер № 81-й.
Сняли флаг
и вынесли из рубки
лоцию…
А море штормовало,
Командир сказал:
«Устали руки!» —
и, едва добравшись до штурвала,
на компас взглянул он:
«Порт на румбе!» —
и упал
на мостике
у тумбы.
2
Как запомнить свет звезды падучей,
как отыщешь, где она упала?
На Тамани,
у высокой кручи,
у подножья пенистого вала,
всем ветрам распахнута навстречу,
с давних пор стоит одна лачуга.
Там три дня подряд горели свечи,
там три дня подряд у тела друга
собирались хмурые матросы.
Стыли волны па причальных сваях.
На манильских несмоленых тросах
провисала койка подвесная.
А на жёсткой флотской парусине
он лежал,
сурово сдвинув брови,
в орденах,
в морском мундире синем.
Замирало море в изголовье,
а у ног — гвардейцы…
Я заметил,
как качнулась тень на смуглых лицах.
Мы молчали.
Мы пришли проститься
молча, перед самым боем.
Ветер!
Вдруг ворвался с моря свежий ветер,
тросами поскрипывая глухо.
И качнулась койка в полусвете,
и поплыл на койке Дмитрий Глухов,
как всегда,
в свой дальний путь обычный,
только что уснувший после боя.
И закрыл плечами свечи мичман,
чтобы свет его не беспокоил,
и, шагнув вперёд, сказал, прощаясь:
— Жил, качаясь на волне,
и, на волне
качаясь,
ты ушёл в последний рейс.
Мне тоже,
если только смерти, —
то такой же. —
Мы надели мичманки.
И руки
потянулись к козырькам.
Сирена
извещала нас, что поднят «буки» —
флаг о выходе туда,
где пена,
закружившись в гибельном узоре,
тонет в белой глубине буруна.
…Немцы были у Камыш-Буруна.
Их маяк сигналил:
«Ветер с моря!»
Июньские дни Нахимова
1. Возвращение
Когда в одной ладони —
все дороги.
И встать на холм —
как дёрнуть за кольцо.
И ни моря не властны
и ни боги.
И лица всех сошлись в одно лицо.
Когда послушней конь,
острее зренье
и ни себя не жалко,
ни коня.
Когда, освобождённый,
отстраненьем
возвысишься
над суетностью дня…
Как горячит
и как пьянит опасность.
Но, все свои сомненья погребя,
ты знаешь,
что живёшь не для себя.
И в этом суть,
и правота,
и ясность.
...................................................
...................................................
Три ниши
во Владимирском соборе.
Три места в склепе.
Трое лечь могли
под куполом с крестом,
над городом,
что всех других дороже.
Был первым —
Лазарев.
Он — первый адмирал —
лёг в склепе первым.
— Берегу
второе место для себя, —
сказал Нахимов.
Но смерть всевластна.
Подданных своих
смерть убирает
по своим контрактам.
Она — вершительница
судеб всех.
Одна она ли только?!
И стал вторым Корнилов.
Он, кажется мне тоже,
что-то знал.
Он загодя оставил завещанье,
ранним утром,
часов примерно в семь,
часы отправил сыну золотые.
А в полдень
принял смерть на бастионе.
Не прячась от неё,
не хоронясь,
с холодною улыбкой
обреченья…
— Держу я третье место
для себя, — сказал Нахимов.
Он ослаб от горя
и не стыдился слёз.
Был третьим
адмирал Истомин.
Опять Малахов,
тот же бастион,
люнет камчатский,
тот же вызов жизни.
— Что хорониться,
смерть своё возьмёт, —
сказал Нахимов, —
лягу…
в ногах товарищей.
2. Предчувствие
(17 июня 1855 года. Малахов курган. Штыковая)
А он с коня в штыки —
и нет
ни неба,
ни земли,
ни адмиральских эполет.
Лишь хруст костей
да красный след,
когда кричат:
— Коли! —
А он не думал ни о чём,
пришёл ли нет черёд.
Не взвешивал,
а предпочёл
толкнуть тарутинцев плечом
и с саблею —
вперёд.
А ковыли давно в крови.
А бог — приди
и лик яви
в малиновом дыму.
И нет ни неба,
ни земли,
лишь хруст костей
да крик:
— Коли! —
Пощады — никому.
Накануне сражения
явился к Нахимову
Данненберг.
— Извините, — сказал он, —
я ещё не был с визитом
у вас.
— Помилуйте,
ваше высочество,
лучше б
Сапун-горе
сделали вы визит…
..............................................
..............................................
Итак, другого не дано:
пусть всё летит вверх дном.
Земля виднее
под конём,
трава теплее
под огнём,
нет выхода — так вверх килём.
А город…
Если суждено.
Но… только не при нём.
Скатилась по небу звезда,
двух душ сближала даль.
Уберегли его тогда,
и отодвинулась беда.
Надолго ли?!
Едва ль…
Близ Малахова кургана
солдат, умирая,
остановил верхового:
— Я не помощи прошу,
ваше благородие,
я спросить у вас хочу, —
верховой склонился
в стременах, —
— адмирал Нахимов
не убит?
— Нет.
— Слава богу! —
И солдат, перекрестившись,
умер…
3. Смерть
(28 июня 1855 года. Корниловский бастион)
В шесть часов пополудни,
вернее, чуть раньше шести,
на исходе июня,
во вторник,
дня двадцать восьмого,
двое: Павел Нахимов
и флаг-офицер Колтовской,
благодушно беседуя
ехали к Керну
верхами.
День клонился к закату,
акация властно цвела.
Сладковато и властно.
Нахимов сказал:
— Дело божье.
Бог даёт,
бог берёт…
Храбрость — суть
постоянство усилий.
Смерть преследовать нужно,
чтоб душу от страха спасти.
То, что мы — молодцы, — хорошо.
И для нас,
и, пожалуй, для многих.
В шесть часов пополудни,
вернее, чуть раньше шести,
на исходе июня,
во вторник,
дня двадцать восьмого,
обойдя батарею,
он вышел к вершине холма
и спросил у сигнальщика:
— Сколько нас?
— На суток на четверо…хватит… —
Рядом шлёпнулась пуля,
с шипеньем уткнувшись в мешок.
Он стоял,
возвышаясь по грудь
над банкетом.
Снова пуля…
— Прицельно стреляют, —
сказал.
Керн был бледен.
Нахимов
за подзорной трубой потянулся.
.............................................
— Внизу идёт богослужение
в честь завтрашнего праздника
святых Петра и Павла.
Не желаете послушать? —
спросил Керн.
— Никого не задерживаю-с…
.............................................
На исходе июня,
ах, какая тоска,
он нашёл свою пулю,
так как пулю искал.
В шесть часов пополудни
тайна смерти близка…
И разгадкою жизни
хлещет кровь из виска.
............................................
............................................
Когда часы надежды истекли
его по Аполлоновой горе
до бухты
донесли товарищи
и положили в шлюпку.
Буксировали баркасами
и встретили на Графской,
как живого,
взяв вёсла на валек.
Потом, неспешно,
двинулись домой.
Из окон дома
было слышно,
как полковая музыка играла.
…Гроб его
три флага осенили.
Два адмиральских,
третий — кормовой,
пробитый ядрами
синопскими
с «Марии».
В почётном карауле стояли —
семнадцать в ряд.
«Полный ход»
сыграли барабанщики.
Колокола —
один, потом другой —
звонили с Корабельной.
Четырнадцать священников
служили панихиду.
Приспустили флаги
на кораблях.
Весь Севастополь
проводил Нахимова
в последний путь
до склепа,
во Владимирскую церковь.
Там его
три адмирала ждали.
Его учитель —
Лазарев,
Корнилов
и Истомин.
Он сам хотел
лечь у друзей
в ногах…
#вернуться к содержанию
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)

Александр Пушкин, портрет работы О. А. Кипренского.
Война (1821)
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамёна бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений! —
Всё ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль тёмную судил мне жребий боёв?
И всё умрёт со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь!.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела…
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая ещё не закипела?
Мне бой знаком — люблю я звук мечей… (1820)
Мне бой знаком — люблю я звук мечей:
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жён лобзаний не достоин.
Анчар (1828)
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскалённой,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мёртвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нёму и птица не летит
И тигр нейдёт — лишь вихорь чёрный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потёк
И к утру возвратился с ядом.
Принёс он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принёс — и ослабел и лёг
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
#вернуться к содержанию
Рождественский Роберт Иванович (1932—1994)
На Земле безжалостно маленькой… (1969)
На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
…А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!
Баллада о красках (1972)
Был он рыжим,
как из рыжиков рагу.
Рыжим,
словно апельсины на снегу.
Мать шутила,
мать весёлою была:
«Я от солнышка сыночка родила…»
А другой был чёрным-чёрным у неё.
Чёрным,
будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
говорила:
«Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом,
в сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли —
поклонились маме в пояс.
И ушли.
Довелось в бою почуять молодым
рыжий бешеный огонь
и чёрный дым,
злую зелень застоявшихся полей,
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла,
воевали до победы.
Мать ждала.
Не гневила,
не кляла она судьбу.
Похоронка
обошла её избу.
Повезло ей.
Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей.
Повезло ей!
Повезло!—
Оба сына
воротилися в село.
Оба сына.
Оба-двое.
Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы — что ещё?
Пьют зелёное вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы —
смертельной белизны!
Видно, много
белой краски
у войны.
#вернуться к содержанию
Сельвинский Илья Львович (1899—1968)
Я это видел (1942, Керчь)
Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел. Своими глазами.
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут дорога. А там вон — взгорье.
Меж нами
вот этак —
ров.
Из этого рва поднимается горе.
Горе без берегов.
Нет! Об этом нельзя словами…
Тут надо рычать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в мёрзлой яме,
Заржавленной, как руда.
Кто эти люди? Бойцы? Нисколько.
Может быть, партизаны? Нет.
Вот лежит лопоухий Колька —
Ему одиннадцать лет.
Тут вся родня его. Хутор «Весёлый».
Весь «Самострой» — сто двадцать дворов
Ближние станции, ближние села —
Все заложников выслали в ров.
Лежат, сидят, всползают на бруствер.
У каждого жест. Удивительно свой!
Зима в мертвеце заморозила чувство,
С которым смерть принимал живой,
И трупы бредят, грозят, ненавидят…
Как митинг, шумит эта мёртвая тишь.
В каком бы их ни свалило виде —
Глазами, оскалом, шеей, плечами
Они пререкаются с палачами,
Они восклицают: «Не победишь!»
Парень. Он совсем налегке.
Грудь распахнута из протеста.
Одна нога в худом сапоге,
Другая сияет лаком протеза.
Лёгкий снежок валит и валит…
Грудь распахнул молодой инвалид.
Он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!»
Поперхнулся. Упал. Застыл.
Но часовым над лежбищем смерти
Торчит воткнутый в землю костыль.
И ярость мёртвого не застыла:
Она фронтовых окликает из тыла,
Она водрузила костыль, как древко,
И веха её видна далеко.
Бабка. Эта погибла стоя,
Встала из трупов и так умерла.
Лицо её, славное и простое,
Чёрная судорога свела.
Ветер колышет её отрепье…
В левой орбите застыл сургуч,
Но правое око глубоко в небе
Между разрывами туч.
И в этом упреке Деве Пречистой
Рушенье веры десятков лет:
«Коли на свете живут фашисты,
Стало быть, бога нет».
Рядом истерзанная еврейка.
При ней ребенок. Совсем как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне…
Матери сердцу не изменили:
Идя на расстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы
Мать от простуды спасала дитя.
Но даже и смерть для них не разлука:
Невластны теперь над ними враги —
И рыжая струйка
из детского уха
Стекает
в горсть
материнской
руки.
Как страшно об этом писать. Как жутко.
Но надо. Надо! Пиши!
Фашизму теперь не отделаться шуткой:
Ты вымерил низость фашистской души,
Ты осознал во всей её фальши
«Сентиментальность» пруссацких грез,
Так пусть же
сквозь их
голубые
вальсы
Торчит материнская эта горсть.
Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней,
Ты за руку их поймал — уличи!
Ты видишь, как пулею бронебойной
Дробили нас палачи,
Так загреми же, как Дант, как Овидий,
Пусть зарыдает природа сама,
Если
всё это
сам ты
видел
И не сошёл с ума.
Но молча стою я над страшной могилой.
Что слова? Истлели слова.
Было время — писал я о милой,
О щёлканье соловья.
Казалось бы, что в этой теме такого?
Правда? А между тем
Попробуй найти настоящее слово
Даже для этих тем.
А тут? Да ведь тут же нервы, как луки,
Но строчки… глуше варёных вязиг.
Нет, товарищи: этой муки
Не выразит язык.
Он слишком привычен, поэтому бледен.
Слишком изящен, поэтому скуп,
К неумолимой грамматике сведён
Каждый крик, слетающий с губ.
Здесь нужно бы… Нужно созвать бы вече,
Из всех племён от древка до древка
И взять от каждого всё человечье,
Всё, прорвавшееся сквозь века, —
Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
Эхо нашествий, погромов, резни…
Не это ль
наречье
муки бездонной
Словам искомым сродни?
Но есть у нас и такая речь,
Которая всяких слов горячее:
Врагов осыпает проклятьем картечь.
Глаголом пророков гремят батареи.
Вы слышите трубы на рубежах?
Смятение… Крики… Бледнеют громилы.
Бегут! Но некуда им убежать
От вашей кровавой могилы.
Ослабьте же мышцы. Прикройте веки.
Травою взойдите у этих высот.
Кто вас увидел, отныне навеки
Все ваши раны в душе унесёт.
Ров… Поэмой ли скажешь о нём?
Семь тысяч трупов.
Семиты… Славяне…
Да! Об этом нельзя словами.
Огнём! Только огнём!
#вернуться к содержанию
Симонов Константин Михайлович (1915—1979)
Если дорог тебе твой дом… (1942)
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нём исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоём доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки её,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель…
Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевёртывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал…
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоём ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,— так её любил,—
Чтоб фашисты её живьём
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли её втроём,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трём этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Всё, что свято берёг ты сам
Всею силой мужской любви…
Если ты фашисту с ружьём
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Всё, что родиной мы зовем,—
Знай: никто её не спасет,
Если ты её не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоём дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Жди меня (1941)
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Танк (1939)
Вот здесь он шёл. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницы миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.
Вот здесь он, всё ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Купив пехоте трудную победу.
Уже к рассвету, в копоти, в пыли,
Пришли ещё дымящиеся танки
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.
Он словно не закапывать просил,
Ещё сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он что было сил
Ещё грозил своей разбитой башней.
Чтоб видно было далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест —
Над полем боя памятник посильный.
Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тёсаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть как свидетель подтвердит по праву:
Да, нам далась победа нелегко.
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Майор привёз мальчишку на лафете… (1941)
Майор привёз мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.
Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надёжней места
Отныне в мире для ребенка нет.
Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.
Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой…
Ты говоришь, что есть ещё другие,
Что я там был и мне пора домой…
Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.
Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.
За всё, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
#вернуться к содержанию
Сурков Алексей Александрович (1899—1983)
В землянке (1941)
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
О тебе мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твой негасимой любви.
#вернуться к содержанию
Твардовский Александр Трифонович (1910—1971)
Я знаю, никакой моей вины…
Видео (кликабельно) «Я знаю, никакой моей вины», читает Сергей Безруков
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…
В тот день, когда окончилась война… (1948)
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далёкой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мёртвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учётный.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалёку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.
И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.
Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Ещё в строю стояли вместе с нами;
И с теми, что её великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Ещё у Волги обтекали глиной;
И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В её предместьях на передовой
Зимою сорок первого;
и с теми,
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.
Со всеми — пусть не равен их удел, —
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел —
Такой был срок ему отпущен малый.
Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамён, склонённых, как велит приказ, —
Со всеми, до единого со всеми.
Простились мы.
И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Берёзы, вербы, клёны и дубы
В который раз листву свою сменили.
Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.
И не за тем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не за тем, нет, не за тем одним,
Что ветры войн шумят не утихая.
И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, —
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?
И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека!
Что ж, мы трава? Что ж, и они трава?
Нет. Не избыть нам связи обоюдной.
Не мёртвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы — мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу,
Как у живых, — я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова, что нету веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Ещё не зная отклика живых, —
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых — не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живёт, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.
Дом бойца (1942)
Столько было за спиною
Городов, местечек, сёл,
Что в село своё родное
Не заметил, как вошёл.
Не один вошел — со взводом,
Не по улице прямой —
Под огнём, по огородам
Добирается домой…
Кто подумал бы когда-то,
Что достанется бойцу
С заряжённою гранатой
К своему ползти крыльцу?
А мечтал он, может статься,
Подойти путём другим,
У окошка постучаться
Жданным гостем, дорогим.
На крылечке том с усмешкой
Притаиться, замереть.
Вот жена впотьмах от спешки
Дверь не может отпереть.
Видно знает, знает, знает,
Кто тут ждёт за косяком…
«Что ж ты, милая, родная,
Выбегаешь босиком?..»
И слова, и смех, и слезы —
Всё в одно сольётся тут.
И к губам, сухим с мороза,
Губы тёплые прильнут.
Дети кинутся, обнимут…
Младший здорово подрос…
Нет, не так тебе, родимый,
Заявиться довелось.
Повернулись по-иному
Все надежды, все дела.
На войну ушёл из дому,
А война и в дом пришла.
Смерть свистит над головами,
Снег снарядами изрыт.
И жена в холодной яме
Где-нибудь с детьми сидит.
И твоя родная хата,
Где ты жил не первый год,
Под огнём из автоматов
В бороздёнках держит взвод.
— До какого ж это срока, —
Говорит боец друзьям, —
Поворачиваться боком
Да лежать, да мерзнуть нам?
Это я здесь виноватый,
Хата все-таки моя.
А поэтому, ребята, —
Говорит он, — дайте я…
И к своей избе хозяин,
По-хозяйски строг, суров,
За сугробом подползает
Вдоль плетня и клетки дров.
И лежат, следят ребята:
Вот он снег отгрёб рукой,
Вот привстал. В окно — граната,
И гремит разрыв глухой…
И неспешно, деловито
Встал хозяин, вытер пот…
Сизый дым в окне разбитом,
И свободен путь вперёд.
Затянул ремень потуже,
Отряхнулся над стеной,
Заглянул в окно снаружи —
И к своим: — Давай за мной…
А когда селенье взяли,
К командиру поскорей:
— Так и так. Теперь нельзя ли
Повидать жену, детей?..
Лейтенант, его ровесник,
Воду пьёт из котелка.
— Что ж, поскольку житель местный… -
И мигнул ему слегка. —
Но гляди, справляйся срочно,
Тут походу не конец. —
И с улыбкой: — Это точно, —
Отвечал ему боец…
Шефнер Вадим Сергеевич (1915-2002)
22 июня (1961)
Видео (кликабельно) «22 июня», читает Смирнов Владимир
Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться —
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их — напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.
Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967)
1941 (1941)
Мяли танки тёплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала тёмная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шёл Смоленщины дремучий бор,
Шёл глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.
Они накинулись, неистовы… (1942)
Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она всё вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.
Белеют мазанки, хотели сжечь их… (1943)
Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
Но не успели. Вечер. Дети. Смех.
Был бой за хутор, и один разведчик
Остался на снегу. Вдали от всех
Он как бы спит. Не бьётся больше сердце.
Он долго шёл — он к тем огням спешил.
И если не дано уйти от смерти,
Он, умирая, смерть опередил.
См. также